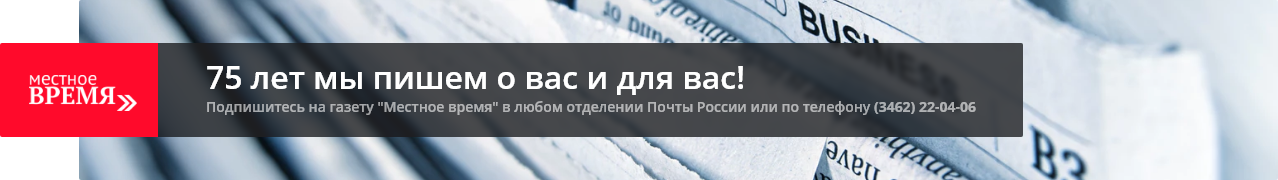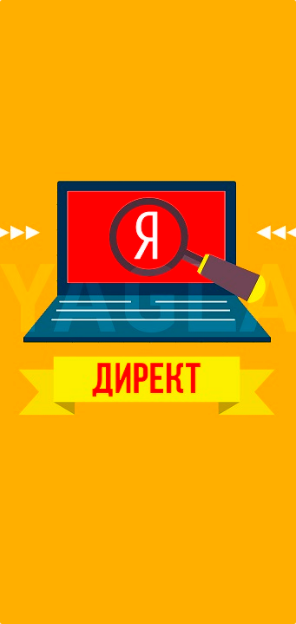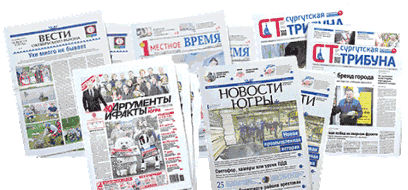Михаил Маркин: «В библиотеке запретный плод, как выясняется, не сладок»
Выясняем, зачем читателям сегодня нужно объяснять значение устаревших слов

Заведующий библиотекой лицея имени Пушкина Михаил Маркин стал одним из победителей регионального конкурса проектов по популяризации чтения среди школьных библиотек. Его проект «Толковый словарь «Царь-рыбы» В. Астафьева» на днях отметили дипломом третьей степени.
Журналист «МВ» поговорил с Михаилом Васильевичем о том, могут ли книги конкурировать с гаджетами и как сделать классиков читаемыми.
Счастливы те из родителей, кому не знакомы муки литературы, когда дите пытается разобраться в высоком слоге Александра Сергеевича. Слезы брызнули уже на строке про торжествующего крестьянина на каких то там дровнях, а дальше летит кибитка удалая. Стрелки часов ползут к полуночи, а упрямый ямщик все сидит на облучке в тулупе, в красном кушаке. И вся семья неистово любит классика, а вместе с ним учителя литературы и все министерство просвещения.
Стоит ли ждать, что после первой психологической травмы ребенок когда то заляжет с книгой Пушкина, а впереди его ждут Дубровский и Онегин. Даже в выпускных классах наш подросток может вновь споткнуться на непонятном - теперь уже у современников. Чтобы чтение не превратилось в пытку, нужно изменить отношение к нему. Или хотя бы перевести устаревшие, не известные многим слова. Чем и занялся распорядитель школьного книгохранилища.

- Михаил Васильевич, вы сколько лет в этой профессии?
- Совсем недолго, в библиотеке я с открытия лицея. Но в образовании полных 36 лет: работал и учителем, и заместителем руководителя.
- Учителем чего?
- Не поверите, математики.
- Почему же. Наоборот, стало понятнее, почему ваш проект исследует не содержание, а отдельные слова. На мой взгляд, вполне логичный подход.
- Идея проекта возникла совершенно случайно. По роду моей нынешней деятельности приходится заказывать различную литературу, не только учебники, но и художественную. Одно из издательств в своем прайс-листе указало (вы знаете, что все книги имеют возрастные ограничения) в аннотации к «Царь-рыбе» Астафьева «16+». И сносочка: «Но рекомендовать читать с 18 лет». Я решил разобраться, почему это так. И буквально с первой страницы наткнулся на такие слова, как, например, «лыва», «озерина». Ну и коль они мне не совсем понятны, уже человеку, пожившему приличное количество лет, оно совершенно непонятно нынешним школьникам. Решил проверить. Предложил эту идею в девятом классе, одна ученица согласилась. Мы в прошлом году с ней прочитали три различных издания Астафьева, выписали все устаревшие слова. Нашли их толкование только (тоже можете не поверить) в нашей центральной библиотеке имени Маргариты Анисимковой. У них нашлось репринтное издание словаря Даля 1881 года. Добыли оттуда все нужные слова и сделали такой проект. Он был замечен в лицее, затем в городе, а теперь и у коллег в регионе. А у нас ко всем изданиям теперь есть специальный вкладыш с толкованиями некоторых непонятных слов.
- Школьная библиотека - это больше про программную литературу. А для себя, по своим интересам что-нибудь спрашивают? Вообще, дети у вас читают?
- Если делить по возрастам, то много читателей, хотя, наверное, скорее посетителей библиотеки - в первых классах. Потому что это дело для них новое, они приходят самостоятельно, смотрят, выбирают. Постепенно этот интерес, если он не поддерживается учителем, к пятому классу угасает. Остаются только те, кто привык читать, кто с этим живет. Ну и вторая волна опять-таки незначительного интереса начинается в девятом классе, продолжаясь до выпускного. Я говорю о подростках, которые собираются сдавать литературу - сначала на ОГЭ, затем на ЕГЭ, и сделать этот предмет основной будущей профессии.
А так спрашивают то, чего пока нет в нашей библиотеке - того же Гарри Поттера и тому подобное. Но нам всего три неполных года, фонд еще не такой обширный.
- Вы беседуете с ребятами о прочитанных книгах: понравилась ли, о чем содержание?
- Обязательно задаю несколько вопросов, когда возвращают книги. Тем более, основные читатели - начальная школа, а это в памяти со своего детства, из родительского опыта, а теперь и дедовского. Очень пугает тех, кто читает Бажова, вопрос: «А кто такой Кокованя?». В общем, есть такие каверзные вопросы, которые мы задаем, чтобы понять, читал не читал человек, помнит не помнит прочитанное.
- Заставить ребенка читать книги невозможно, надо заинтересовать, показать, что книга - это не скучно, а очень интересно. Вы что-то делаете для этого?
- Выставки обязательно проводим, для первоклассников после Нового года устраиваем ознакомительные экскурсии по библиотеке. В четвертых классах проводим библиотечные уроки. Есть классы - и это не секрет - в которых читателей совсем немного. Чтобы их привлечь (и облегчить свой труд в следующем учебном году) мы, начиная с пятого класса, учебники выдаем на читательский формуляр. Это значит - читательских формуляр надо завести, и лучше его завести в течение года, чем потом пол лета сидеть их выписывать. Вот с такой практической точки зрения нам даже полезно проводить такие уроки.
- Возвращаясь к книжным полкам - скажите, классики, на ваш взгляд, не устарели? Не скучны они детям?
- В нашем проекте по «Царь-рыбе» Астафьева есть слова, которые отвечают на ваш вопрос, можно прочитать на сайте лицея. Классика не интересна. Даже не интересна та классика, которая когда-то была запрещена. Ну вот, по сути, Астафьеву «18+» выставлено по той же самой причине, по какой детям, например, не позволяли читать «Блокадную книгу» Гранина и Адамовича. Там есть один рассказ (он печатается не во всех сборниках) о каннибализме. Но вот не интересуются они даже тем, что было запрещено. В библиотеке запретный плод, как выясняется, не сладок.

- У того же Астафьева в сборнике «Царь-рыба» ведь удивительный есть рассказ «Уха на Боганиде». Мне кажется, это и всем понятно, и любого бы за душу тронуло.
- Ну вот после того, как был сделан этот проект, его слушали в секции «Русский язык и филология» в лицее, слушали в городе - интерес вызвали только эти слова, но не прочтение всего текста. Один читатель у нас после этого появился. Правда, массовой публике мы этого не предлагали, хотя, наверное, стоит сделать.
- Математика и книговедение - разные сферы. Что для вас эта новая работа?
- Считать я хорошо умею, чтобы вести учет. Ну а читать я тоже когда-то научился, с удовольствием это делаю и теперь, тем более теперь у меня есть на это время. Я читаю художественную литературу, а не специальную, как ранее.
- Что же читает библиотекарь?
- Предпоследнюю книгу я прочитал по рекомендации нашего директора. Есть такой армянский писатель Петросян, его «Пустые стулья на дне рождения». Там описание жизни одной армянской семьи с начала прошлого века.
Как теряли жизни, как распадались семьи, когда разъезжались родные по разным странам. Затем по случаю попала мне в руки книга Сафарли - то ли турецкий азебрайджанец, то ли азербайджанский турок. В общем, молодой, очень популярный писатель. Сейчас дома у меня лежит подарок дочери «Умом Россию не понять». Вот надеюсь, скоро появится свободное время, собираюсь это прочитать.
- Вы своим посетителям что-нибудь рекомендуете или просто отмечаете «приход-расход» в формуляре?
- Обычно спрашиваем, что их интересует. Так же обычно они отвечают: «Что-нибудь интересное». Пытаемся каким-то образом выяснить интересы, поскольку они у всех разные, и подобрать книгу по вкусу. У нас в последнее время появилось очень много современных детских авторов, очень много сказок разных народов - ханты, манси, удмуртов, татар, башкир, то есть интересных и близких для учащихся нижневартовских школ. Ну и классики хватает.
- А вы как относитесь к современным гаджетам? Многие предпочитают держать в руках не бумажную, а электронную книгу.
- Я противник длительного пользования детьми электронных устройств. К тому же на мой взгляд, «читалки» не очень удобны - они маленькие, мне кажется, зрение ими легче повредить, чем книгой. Поэтому я за привычный нам классический формат.
Ранее мы рассказывали, как в Югре впервые прошла Всероссийская конференция финно-угорских писателей, с международным участием.